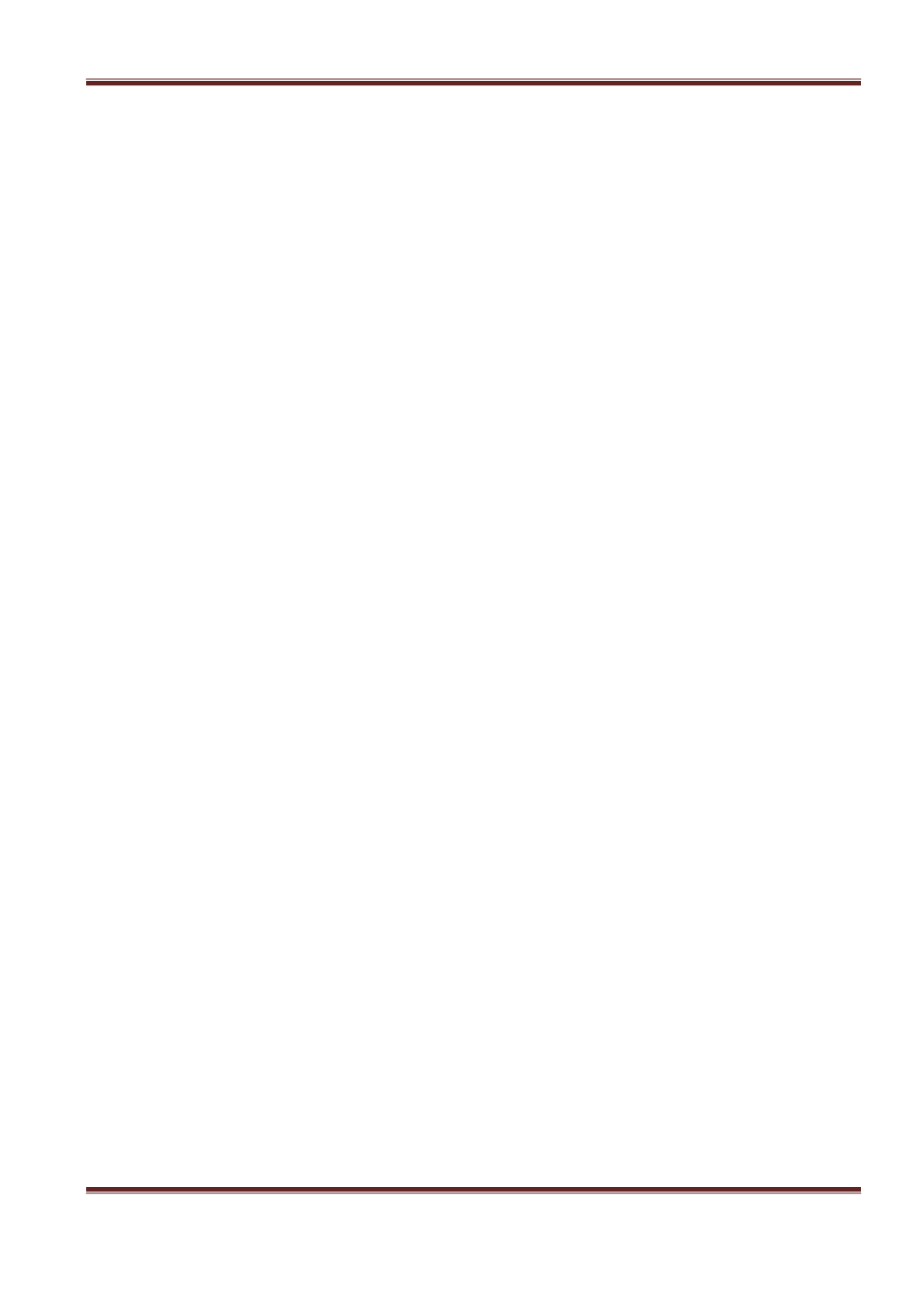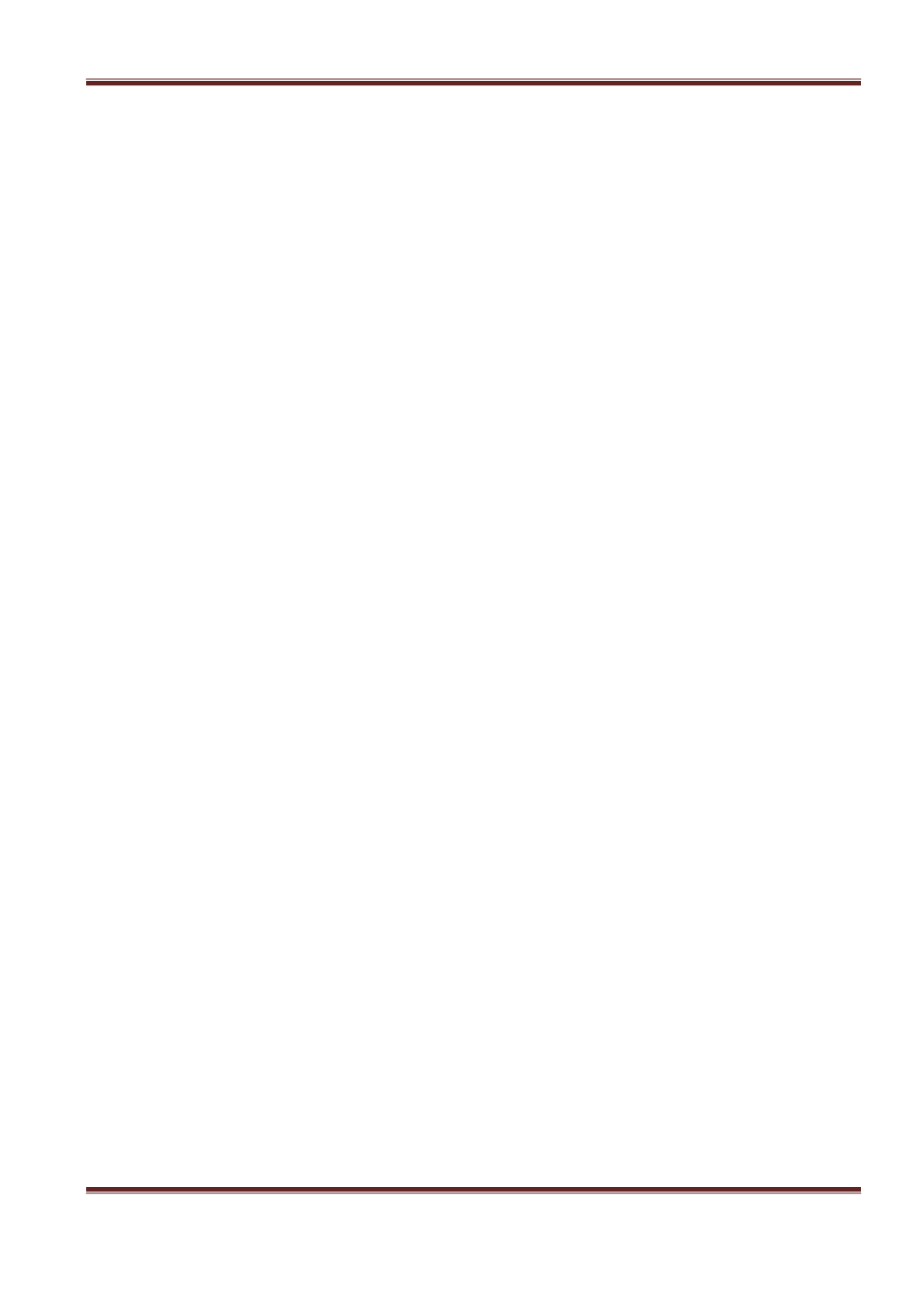
" Н а у к а м о л о д ы х " , 2 6 н о я б р я 2 0 1 9 г . , А р з а м а с
П о с в я щ а е т с я 8 5 - л е т и ю в ы с ш е г о п е д а г о г и ч е с к о г о о б р а з о в а н и я в А р з а м а с е и
8 0 - л е т и ю п р о ф е с с о р а В я ч е с л а в а П а в л о в и ч а П у ч к о в а
1026
разрозненные индивидуумы, объединяющим началом для которых выступает
единое пространство и время [5, с. 7].
В этой связи Карсавин выражает скепсис относительно такой формы
взаимодействия индивидуумов, как социальные группы, которые с точки зрения
процесса развития метафизического субъекта дублируют и фрагментизируют
понятие единого человечества. «Понятие группы ‒ если остановиться ещѐ и на
понятии развития еѐ, это станет очевиднее ‒ оказывается понятием всеединства.
Исторической науке надо или отказаться от понятия группы, т. е. исторической
коллективной индивидуальности, или строить себя на развитой нами теории...»
[3].
При этом Карсавин категорически не соглашается с марксистской
абсолютизацией влияния группы на конкретную личность: «Члены группы
принадлежат к ней не все не всѐ заполненное их жизнью время: они становятся еѐ
членами и перестают быть ими, переходя в другие группы. Точно так же нет
необходимости, чтобы всякий член группы находился в ней целиком» [3].
В то же время Карсавин признает, что понятие социальной группы является
необходимым в эмпирических исследования, поскольку в структуру
исторического
субъекта
входит
множество
компонентов,
включая
многочисленные социальные группы, или коллективные индивидуальности. К
ним Карсавин относит семью, племя, род, сословие, класс, народ, культуру и
другие формы коллективной индивидуальности, которые, по мнению автора
«Философии истории», можно иерархически разделить на органические, или
«умаленно-всеединые» (класс, дружина, католическое духовенство и др.) и
надорганические, или «собственно-всеединые» (семья, род, племя, народ,
культура и др.). Высшее место среди надорганических коллективных
индивидуальностей, по мнению Карсавина, завнимает Церковь [5, с. 7].
В целом же, оценивая теоретико-методологический уровень современной
ему исторической науки с позиции базовых категори и принципов философии
истории, Карсавин резко критикует применяемые здесь подходы за то, что они,
дробящие исторические явление на моменты и теряющие их связь друг с другом,
утрачивают всяческий дух всеединства. Обобщив вызказанные критические
аргументы, автор «Философии истории» приходит к следующим выводам,
касающимся субъективности предмета истории и антипозитивистской природы еѐ
метода: «История изучает социально-психическое. И в сосредоточении на нѐм
дана ей единственная возможность познавать непрерывное развитие
человечества». … Исторический метод … неприменим везде, где остается
непреодолѐнная пространственно-временная разъединѐнность» [3].
Подводя общий итог сказанному, можно выделить следующие основные
характеристики понятия, сущности и субъекта исторического развития,
обнаруживаемые в «Философии истории» Карсавина.
Во-первых, категорию развития Карсавин рассматривает в еѐ сопоставлении
с понятиями эволюции и изменения. На этом основании изменениям
оказываются подвержены механические системы, составленные под влиянием